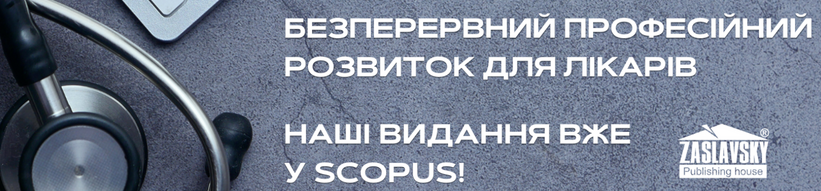Впервые я присутствовал на клинической конференции. Многое в ту пору было для меня впервые. Кончался первый месяц моей работы врачом, около недели в первой клинике Киевского ортопедического института.
Ординатор продемонстрировал пациента. Сестра на каталке увезла больного. Началось обсуждение. Сложный случай.
Молодые врачи скромно слушали выступления старших. Все соглашались с тем, что необходимо оперативное вмешательство.
Аргументы один убедительнее другого. Даже на секунду я не мог подумать о том, что маститые врачи, облаченные степенями и званиями, могут ошибиться.
Выступления заключил заведующий клиникой профессор Елецкий, ортопед старой школы, опытный травматолог. С уверенностью, соответствующей его высокому положению, он указал на необходимость операции, которую собирался осуществить лично.
Оставалось назначить ассистентов, и можно было перейти к разбору следующего больного. Как вдруг…
— Александр Григорьевич, простите, что я прошу слова после заключения, но у меня возникли некоторые соображения, — произнес старый врач, полулежа на стуле, зажатом двумя письменными столами. Его странная голова с седыми космами покоилась на руке, облокотившейся о стол. Он не изменил позы, произнося эту фразу.
Профессор кивнул, явно подавляя неудовольствие.
Все в той же позе старый врач начал неторопливо говорить. Но как он говорил!
Только сейчас мне стало ясно, что операция абсолютно не показана больному. Кто-то из старших научных сотрудников попытался возразить. Старый врач спокойно и убедительно (все в той же позе) отмел возражения.
В ординаторской наступила тишина. Все смотрели на профессора.
— Ну что ж, — сказал он, — Оскар Аронович прав. Последуем его совету.
Начался разбор следующего больного. Я старался получше рассмотреть старого врача, которого до конференции ни разу не встречал в клинике.
Сероватая седина, казалось, месяцами не знала расчески. На подбородке и на шее — седая стерня недобритых волос. Я не знал, что это результат неумелого пользования электрической бритвой. Все врачи клиники облачены в хирургические халаты с завязками сзади. На нем — терапевтический халат, заплатанный, помятый, несвежий. Под халатом такая же несвежая рубашка с потертым воротником и нелепый галстук, завязанный веревочкой. Штанины брюк, не ведавшие утюга, внизу оторочены размочаленной бахромой. Из-под них, вырвавшись на свободу из собранных в гармошку неопределенного цвета носков, торчали штрипки кальсон. По носкам никогда не чищенных ботинок, казалось, прошелся грубый рашпиль. Но самое главное — на некрасивом мудром лице застыла такая безысходность, что я немедленно представил себе, какой жуткий быт окружает этого необыкновенного врача.
Нищенская зарплата, вычеты, займ, взносы... Я представил себе, как его семья ютится в тесной комнатке коммунальной квартиры. Вероятно, есть дочь на выданье, такая же некрасивая и такая же умная, как ее отец. Такая же сероватость на ее изможденном лице — результат хронического недоедания.
Тут же решил, что, как только получу свою первую зарплату (еще более нищенскую, потому что я был начинающим врачом), приглашу коллегу в ресторан и накормлю сытным обедом.
Каково же было мое удивление, когда я узнал, что у старшего научного сотрудника Оскара Ароновича Рабиновича высокая заработная плата, что он самый опытный в Украине специалист по периферической нервной системе, что ему всего лишь пятьдесят четыре года, что у него вообще нет детей и что обедом в ресторане он может накормить не только меня, но и весь институт, потому что его жена — знаменитый профессор-невро–патолог с огромной частной практикой — в день зарабатывает чуть ли не столько, сколько старший научный сотрудник за месяц.
Вскоре мы стали друзьями, хотя Оскар Аронович был на двадцать восемь лет старше меня.
В ту пору коммунистическая партия объявила нового святого — академика Павлова. Изучение павловской теории нервизма, как и все, доводилось до абсурда. Апостолы нового святого проповедовали: руководствуясь учением Павлова, любую болезнь можно вылечить продолжительным сном. К нам в клинику поступали больные с тяжелейшими несросшимися переломами. Вместо того чтобы зафиксировать конечность гипсовой повязкой, малограмотные врачи, поверившие «апостолам», лечили больных с переломами длительным сном.
В клинике проводились обязательные для врачей занятия по павловскому учению. Мне надлежало воспринимать абсурдную профанацию как истину в последней инстанции. Ведь я был ортодоксальным коммунистом. Но почему-то не воспринимал.
Однажды не выдержал и возразил руководителю семинара, сказав, что его утверждения (а это были утверждения официальные, спущенные «сверху») не только не имеют ничего общего с опытами Павлова, но даже противоречат законам природы.
После семинара Оскар Аронович подошел ко мне и очень громко сказал (я еще не знал, что он туговат на левое ухо):
— А вы, оказывается, истинный евреец. Богоборец и искатель истины.
Мы разговорились. Я рассказал ему о книге Шредингера «Что такое жизнь с точки зрения физики». Эта книга уже навлекла на меня неприятности в студенческую пору… Так начались наши продолжительные беседы.
Обнаружилась еще одна точка соприкосновения — любовь к поэзии. Оскар Аронович писал стихи. Мне кажется, плохие стихи. Но слушать он мог часами, отлично понимая, что такое хорошо, а что такое плохо.
Примерно через месяц после нашего знакомства Оскар Аронович пригласил меня к себе.
Проходя по широкому коридору в его кабинет, я заметил в открытой двери смежной комнаты невиданную мною роскошь, хотя, вероятно, не понял, что это такое. Только значительно позже познакомился с уникальной коллекцией его жены, профессора Анны Давыдовны Динабург. Фарфор, уникальная мебель, гобелены.
В 1974 году моя добрая знакомая, скульптор и профессор-искусствовед Рипсиме Симонян, оценила эту коллекцию примерно в семь-восемь миллионов долларов.
За дверью в «музей» — комната хозяина. Я застыл изумленный.
Все стены комнаты от пола до потолка (это свыше четырех метров) заняты стеллажами, плотно забитыми книгами. В центре комнаты — кресло-кровать с неубранной постелью, со свисающим на пол одеялом. У изголовья постели высилась груда книг в дорогих кожаных переплетах с золотым тиснением — собрание французских романов шестнадцатого-семнадцатого веков.
Я переходил от стеллажа к стеллажу, немея от восторга. Впервые в жизни –узнал о существовании однотомников полного собрания сочинений русских поэтов на тончайшей рисовой бумаге. Такие же собрания — английских, итальянских, немецких и французских поэтов, в оригинале. А вот и знакомые мне по погибшей отцовской библиотеке шестнадцать книг «Еврейской энциклопедии», черные с золотом тома Брэма. Вошедшие в моду подписные тома классиков мировой –литературы в этой библиотеке казались случайно заглянувшими сюда бедными родственниками.
Когда дар речи вернулся ко мне, я –узнал, что Оскар Аронович свободно владеет английским, испанским, итальянским, немецким, польским, французским, чешским, древнегреческим и латынью. Еще несколько лет спустя стало ясно, что так же свободно он владеет –ивритом и идишем.
В восьмилетнем возрасте к восторгу отца, который обучал двух своих сыновей по двуязычной Библии, маленький Ашер-Оскар перевел на иврит шесть первых строк стихотворения Лермонтова «Три пальмы».
Пока я рассматривал книги, Оскар улегся на свою постель, свесив ноги на пол. Шпиц Дези принялся усердно грызть носки ботинок. Вот откуда следы раш–пиля!
В те годы, выше всякой меры перегруженный работой, я редко бывал у Оскара. Только спустя несколько лет появилась возможность спокойно упиваться сокровищами уникальной библиотеки.
Оскар был блестящим невропатологом, врачом-мыслителем, не предпринимая при этом никаких усилий. Он просто не был в состоянии предпринимать усилия. Человека бóльшей неорганизованности и расхлябанности мне не приходилось встречать. Ему было проще трижды купить одну и ту же книгу, чем попытаться разыскать ее в своей библиотеке.
Сколько раз я уговаривал его пригласить библиографа, составить каталог, навести порядок, иначе среди тысяч книг не найти нужную. Оскар соглашался. И только.
Понятие о приличном внешнем виде было ему недоступно, как, впрочем, и его жене и любовнице. Если к той женщине можно прилепить такое определение.
Самая естественная поза Оскара — полулежачее положение, особенно когда приходилось разбираться в сложных случаях. Консультируя очень тяжелого больного, Оскар мог позволить себе, обдумывая диагноз, либо диктуя врачу результаты осмотра, полулечь рядом. В женских палатах порой не обходилось без курьезов и фривольных шуток пациенток. Но добродушие Оскара служило надежной броней.
Диктуя на консультациях, он никогда не читал записей. Однажды, в страшную пору после Девятнадцатого съезда партии, когда еврею было опасно просто существовать и трижды опасно — заниматься врачебной деятельностью, я прочитал в истории болезни несусветную чушь, заверенную подписью доцента Рабиновича. Напутала малограмотная ординатор. Я показал ему запись. Оскар весело рассмеялся. Я напомнил ему об опасности, Оскар легкомысленно махнул рукой. И он продолжал подписывать свои консультации, не читая, что написали не всегда грамотные и не всегда добро–совестные врачи.
Однажды я вложил в историю болезни вкладыш, где вместо консультации стал записывать стихи, приписываемые Баркову:
Судьбою не был он балуем,
Но про него сказал бы я:
Судьба его снабдила …,
Не дав в придачу ни … .
Разумеется, без троеточий. Полновесные русские выражения завершали каждую строку. Оскар, как и обычно, подписал свою «консультацию» не читая.
— Отлично, — сказал я, — завтра на институтской конференции вложу этот лист в эпидеоскоп и продемонстрирую на экране, что старший научный сотрудник Рабинович диктует ординаторам.
— Что именно?
Я прочитал. Оскар расхохотался.
— Ну, Иона, не станете же вы делать такую пакость?
— Стану. Непременно стану.
Оскар перестал смеяться. Согласился дать мне честное слово, что не будет больше подписывать не читая, если я сейчас же уничтожу этот лист. Конечно, он слова не сдержал.
Оскар ушел на пенсию, не дождавшись шестидесятилетия. Из-за несуществующего сердечного заболевания, в которое он верил настолько, что даже сумел убедить других. Может быть, не надо было убеждать? Может быть, руководство Киевского ортопедического института только обрадовалось, что таким безболезненным способом избавилось еще от одного еврея, к тому же — Рабиновича? А что Рабинович — уникальный врач, никого не волновало.
Оскар прекратил врачебную деятельность. Это было преступлением перед больными. Но жена, профессор Динабург, умела завести его в наиболее сложных случаях, в которых даже она, выдающийся невропатолог, нуждалась в консультации.
— Оскар, — говорила она, — я уверена, что этот случай тебе не по зубам.
— Какой случай?
Анна Давыдовна докладывала.
— А ты разобралась? — спрашивал Оскар.
— Конечно, — отвечала Анна Давыдовна.
— Посмотрим. Напиши диагноз и не показывай, что ты написала.
И начинался цирк. Я получал огромное удовольствие и еще большую пользу, наблюдая эти консультации-турниры.
Однажды мне крайне понадобилась помощь Оскара. В больнице, в которой я работал, лежал десятилетний мальчик. Два крупнейших киевских ортопеда, в их числе мой учитель, поставили диагноз «туберкулез поясничного отдела позвоночника». Продолжительное болезненное лечение не улучшало состояния ребенка. Ежедневно наблюдая его, я все больше убеждался в ошибочности диагноза. Но ведь не байка, а быль, если костный туберкулез заподозрит по ошибке даже начинающий врач, опытный профессор не сразу решится его опроверг–нуть. А тут все наоборот: диагноз поставили два профессора, и я собирался уличить их в ошибке.
Не было сомнения, что у Миши какое-то неврологическое заболевание. Но какое? Моих знаний и опыта явно недостаточно. Мне нужна была консультация не просто хорошего невропатолога — именно Рабиновича. Но как его заполучить?
Больница у черта на куличках. Стояли редкие для Киева морозы. Частной практикой Оскар не занимался никогда, на пенсии — и подавно.
Мы жили по соседству. Он — в седьмом, а я — в пятом номере. Я знал, что в половине десятого утра он выбирается из дома, чтобы совершить очередной обход книжных магазинов. К означенному времени я «случайно» оказался возле его подъезда. Оскар обрадовался, увидев меня. (Разрабатывая план операции «Рабинович», я в течение двух недель старался не попадаться ему на глаза и не подходить к телефону, если он звонил.)
Постояли. Поговорили. На вопрос, что нового, я ответил, что есть новые стихи, но тороплюсь. Впрочем, он может –услышать эти стихи, если проводит меня. Оскар охотно согласился. Но возникла техническая проблема. Очень скользко. У меня в левой руке палочка. Следовательно, я шел слева. А Оскар же слышал только правым ухом. Пока мы спускались по Прорезной на Крещатик, я орал стихи так, что редкие прохожие шарахались от двух сумасшедших.
Подошли к остановке восьмого троллейбуса. Я был бедным врачом, не мог позволить себе такой роскоши, как такси. Конечно, можно было обратиться к Мишиному деду, который каждый день приезжал в больницу. Но взять у родственника пациента деньги на такси? Даже представить себе не мог такого. А присутствие деда разрушило бы мой хитроумный план.
Подошел троллейбус, мы проехали одну остановку, на площади пересели в трамвай. На Контрактовой площади продолжал читать стихи, пока, душераздирающе визжа на закруглении, мимо нас проезжали ненужные трамваи — девятый, одиннадцатый, тринадцатый, девятнадцатый.
Подлый ветер пронизывал до костей. Ноги окоченевали. Наконец двенадцатый номер появился. До седьмой линии в Пуще-Водице мы ехали час и пять минут. В полупустом вагоне пассажиры с недо–умением смотрели на двух ненормальных, из которых один криком извергал из себя стихи, а другой, подставив правое ухо, пытался расслышать слова в грохоте промерзшего трамвая.
Стихи на морозе в течение двух часов! К тому времени, когда трамвай подошел к нашей остановке, я уже не кричал, а сипел.
— А теперь, Оскар, платите гонорар. Можете натурой. У меня лежит ребенок, которого вы должны посмотреть.
— Иона, you are cheat, — прокричал он, рассмеявшись. Потом, вспомнив, что я не владею английским языком, добавил: — Ihr sind ein Schwindler!
Оскар Аронович внимательно обследовал Мишу. Очень жаль, что только я один присутствовал на этом уникальном уроке неврологии! Мне стало все ясно еще до того, как консультант занялся диагнозом. Оскар посмотрел на меня так, словно увидел впервые, и нараспев произнес:
— Иона, вы становитесь врачом. Отвергнуть приговор, вынесенный двумя корифеями, — это, знаете ли. Вот если вы еще сформулируете диагноз...
Я сформулировал диагноз. Оскар поправил меня и, не скрывая удовольствия, заявил:
— Вы, конечно, жулик, и cheat, и Scwindler, и вус ин дер курт, но еще три консультации вы честно заработали.
Должен ли я сообщить, что честно оправдал прозвища, данные мне Оскаром (жулик, все, что в кружке или в картах), что три, а то и четыре его консультации умудрялся засчитывать за одну?
Шли годы. Крепла наша дружба. Еще одна важная тема появилась во время наших бесед: Израиль. Вот когда я узнал, что Оскар свободно владеет ивритом.
Его отец в Прилуках к четырнадцати годам изучил Талмуд, экстерном сдал экзамен за восемь классов гимназии, не проучившись в ней ни одного дня, был принят на юридический факультет Киевского университета. Но его исключили за участие в революционных демонстрациях. Еврей, знаток Талмуда, не мог не участвовать в революционных демонстрациях. Юридическое образование отец Оскара завершил в Юрьевском университете. Ему предложили остаться на кафедре, надо лишь перейти в христианство. Он отказался от этой чести. Еврей с юридическим образованием несколько лет прослужил казенным раввином в Керчи. Октябрьскую революцию воспринял уже без восторга.
Сын Арона Рабиновича Ашер-Оскар запоем читал книги на иврите, предоставляемые библиотекой «Общества распространения просвещения между евреями России». Учился в реальном училище в Санкт-Петербурге, окончил училище уже в Киеве после Февральской революции.
Нельзя сказать, что с годами Оскар становился более странным, чем прежде, хотя моя жена считала это очевидным. Он мог внезапно прийти к нам в гости потому, что в этот момент его мучил вопрос: существует ли пустота? Мы до поздней ночи обсуждали физические проблемы.
Казалось, Оскар уже ничем не мог удивить меня. Но как-то, когда я позвонил ему, трубку сняла Анна Давыдовна. Мы поговорили. На просьбу пригласить к телефону Оскара она ответила:
— Его нет дома. Он у своей любов–ницы.
Я потерял дар речи. Оскару в ту пору перевалило за семьдесят. Даже в молодые годы он не смахивал на героя-любовника. Неужели справедлива пословица «седина в голову — бес в ребро»? Ответ я получил, когда Оскар познакомил меня со своей любовницей.
Старую русскую аристократку трудно было отличить от еврейки Анны Давыдовны. Та же неряшливость — внешняя и в быту. Тот же рафинированный интеллектуализм. Тот же профессиональный уровень — профессор университета, один из крупнейших в мире специалистов в своей области.
Возможно, слово «любовница» следовало заключить в кавычки? Не знаю.
Когда я приходил к ней и заставал Оскара в его излюбленной позе — возлежащим на старом диване с торчащими пружинами (профессор была вполне состоятельным человеком и смена мебели не являлась для нее проблемой), они прерывали очередной спор на французском языке по поводу стиля романа семнадцатого века и неохотно переходили на русский язык.
Еще раз удивил меня Оскар перед нашим отъездом в Израиль. Он пришел попрощаться со мной и вдруг попросил прислать ему вызов.
С Анной Давыдовной я неоднократно говорил об Израиле. Я знал, что в свои семьдесят четыре года она уже не способна на катастрофические перемены. Я напомнил Оскару, что он на несколько лет старше жены.
— Ну что ж, — ответил, — поеду один.
— Оскар, простите мне грубую откровенность. Вам около восьмидесяти. К тому же вы глухи. Что вы дадите Израилю?
— Я дам, — упрямо ответил он.
— А ваша бесценная библиотека? Вам ведь не разрешат ее вывезти.
— Человек приходит в мир голым и голым уходит на тот свет.
P.S. Глава о моем учителе Оскаре Ароновиче Рабиновиче уже около полутора лет лежала в столе, когда летом 1987 года я неожиданно получил от Оскара письмо, полное обиды за то, что не пишу ему.
Оскар сообщил, что он совсем одинок. Анна Давыдовна умерла. Незадолго до этого скончалась любовница.
Вызова Оскар уже не просил. Зато попросил прислать ему фотографии Иерусалима. Что еще я мог сделать для почти девяностолетнего одинокого еврея, живущего среди книг, о которых только можно мечтать, в музее с коллекцией стоимостью в семь-восемь миллионов долларов (по ценам 1974 года), которую, как и книги, некому унаследовать?
Юда Нохемович Мительман
Строение плечевого сустава до мельчайших подробностей я мог себе представить с закрытыми глазами. Но на рассматриваемой рентгенограмме сустав почему-то выглядел совсем не так, как ему надлежало. Даже мой непосредственный руководитель доцент Антонина Ивановна Апасова — что уже совсем ни в какие ворота не лезло — рассматривала рентгенограмму с явным недоумением. А я-то считал, что в отличие от начинающего врача для доцента ортопеда-травматолога абсолютно нет секретов в нашей специальности. Антонина Ивановна –неуверенно повертела снимки в руках и сказала:
— Спуститесь в рентгеновское отделение и покажите рентгенограммы Юд Анохамовичу.
Мне показалось, именно так она произнесла это имя.
Маленький сухонький старичок сидел за большим письменным столом и что-то черкал на листе бумаги, не отрывая взгляда от негатоскопа с двумя рентгенограммами грудного отдела позвоночника.
Я поздоровался и сказал, что Антонина Ивановна велела мне обратиться к Юд Анохамовичу.
Старичок снял небольшие круглые очки в железной оправе, очень внимательно осмотрел меня с ног до головы.
— К кому обратиться? — переспросил он.
— К Юд Анохамовичу.
— Гм. Вы слышали такое имя — Юда?
— Конечно.
— Например?
— Иуда Маккавей, Иуда из Кариоты. У меня был приятель Юда. Правда, мы называли его Юдкой.
Он удовлетворенно хмыкнул, когда я произнес «Иуда из Кариоты», а не «Искариот», как было принято называть эту историческую (или вымышленную) личность.
— Правильно. А имя Нохем вы когда-нибудь слышали?
— Да. Только у нас произносили «Нухем».
— И так можно. Так вот, молодой человек. Я — Юда, а мой отец был Нохем. Поэтому я — Юда Нохемович. Понятно?
Я кивнул головой.
— Повторите.
Я повторил.
— А вас как зовут?
— Ион Лазаревич.
— Иона Лазаревич? Тоже неплохо. Садитесь, Иона Лазаревич. — Собеседник дважды подчеркнул «Иона». — В нашем древнем языке окончание «а» совсем не обязательно признак женского рода. Поэтому славное имя одного из наших пророков не следует сокращать в угоду неизвестно кому. Так что вам неясно на этих рентгенограммах, Иона Лазаревич?
Рентгенолог мельком глянул на снимки, отложил их в сторону, придвинул ко мне лист бумаги и карандаш:
— Могли бы вы изобразить, как выглядит нормальный плечевой сустав на рентгенограмме?
Спустя несколько секунд изобразил.
— Вот как! Так вы, оказывается, рисуете, доктор Иона Лазаревич?
Я сделал неопределенное движение рукой.
— Во всяком случае, я полагаю, у вас нет проблем со стереометрией?
— Люблю стереометрию.
— Отлично. Значит, мы будем дру–зьями.
В общем, даже не представлял себе, что рентгенология может быть такой интересной. С этого дня стал добровольным полномочным представителем клиники в рентгеновском отделении. Каждую консультацию Юда Нохемович превращал в увлекательную лекцию об укладках, артефактах, параллелизме рентгенологической картины и патологической анатомии, о дифференциальной диагностике и даже о технике рентгенографии и проявления пленки.
Юду Нохемовича можно было застать в кабинете, когда все старшие и младшие научные сотрудники уже давно ушли из института. Я общался с заведующим отделом Мительманом, черпал знания из поистине бездонного кладезя.
Как-то я вышел из его кабинета, переполненный впечатлениями. Был поздний вечер. В коридоре и в смежных кабинетах ни души. Подсознательно стал что-то насвистывать. Дурная привычка. Такое случалось со мною даже во время операций. Сейчас я шел и думал о силе и безбрежности знаний, о людях, которые посвящают себя науке, о Мительмане.
В следующий раз Юда Нохемович вдруг попросил:
— А ну-ка, Иона Лазаревич, высвистите снова финал скрипичного концерта Брамса.
Я посмотрел на него с недоумением.
— Это же вы свистели тогда вечером?
Я начал насвистывать. Юда Нохемович тихо подпевал аккомпанемент оркестра. Морщины на востреньком лице разгладились, во всем его облике появилась какая-то мягкость и расслабленность.
Мы стали вспоминать куски из скрипичных концертов Паганини, Бетховена, Мендельсона, Венявского, Сен-Санса.
— А какой скрипичный концерт вам нравится больше всего? — спросил Юда Нохемович.
— Бетховен.
— Следовательно, вы любите скрипку.
Я не понял, почему «следовательно», и сказал, что больше люблю фортепьяно, а скрипка вызывает у меня чувство настороженности и беспокойства. Боюсь случайного постороннего звука, если смычок вдруг мазнет струну, и вообще…
Юда Нохемович хмыкнул:
— Правильно. Поэтому не надо «мазать», необходимо становиться виртуозом в своей области искусства, науки, ремесла… Так что если вы и дальше будете проявлять усердие, то специалиста в рентгенологии костно-суставной системы я из вас сделаю (без чего вообще не может быть хорошего ортопеда-травматолога), хотя я не могу гарантировать, что в рентгенологии вы станете Яшей Хейфецем. Но скрипка, конечно, божественный инструмент. Лучшего нет.
Спустя несколько лет, когда мы уже давно не работали вместе, Юда Нохемович подарил мне очень редкую в Киеве и вообще в Советском Союзе граммофонную пластинку — произведения Сен-Санса и Сарасате в исполнении Яши Хейфеца. На конверте своим нервным, но разборчивым почерком он написал: «Ионе Лазаревичу Дегену, признающему только мастерство. С любовью, Ми–тельман».
Я наблюдал за Юдой Нохемовичем на институтских конференциях и заседаниях ортопедического общества. Каждый спорный случай он отстаивал, как жизненно важное личное дело. Для него не существовало авторитетов. Иногда так горячился, что, казалось, научная дискуссия вот-вот кончится для него трагедией. В такие минуты он напоминал мне боевого петуха.
Я знал, с каким глубочайшим уважением Юда Нохемович относился к профессору Фруминой. Я знал, как профессор Фрумина высоко ценит уникальные знания, порядочность и утонченную интеллигентность Мительмана. Но не дай бог стать свидетелем спора между ними. Самое мягкое заключение: два кровных врага сцепились в смертельной схватке.
Юда Нохемович не признавал предположительных диагнозов. Либо диагноз был ему ясен, он четко формулировал его. Либо говорил: «Не знаю». Это означало, что он пока сомневается в одних соображениях по поводу диагноза, хотя они значительно более близкие к истине, чем у кого-нибудь другого.
В отличие от меня Мительман в ту пору знал, что не все научные работы в институте делаются чистыми руками. И страдал от этого. Но страдал молча. Правда, не вмешивался только до той поры, пока дело не касалось рентгенологической документации клинического исследования или эксперимента.
Однажды рентгеновский техник под страшным секретом рассказала мне о беседе (если можно так квалифицировать) Юды Нохемовича с младшим научным сотрудником института, подленьким человечком, делавшим одновременно партийную и научную карьеру. Женщина случайно оказалась в лаборатории, когда из кабинета Юды Нохемовича раздались громы и молнии.
Мительману предстояло выступить оппонентом на защите диссертации пронырливого карьериста. Разумеется, он пожелал ознакомиться со всеми рентгенограммами эксперимента.
В течение какого-то времени царила тишина, ее прервал решительный голос Мительмана:
— Я отказываюсь быть вашим оппонентом.
— Почему, Юда Нохемович?
— Мне, конечно, следовало оставаться вашим оппонентом и завалить эту липу, растоптать, уничтожить, опозорить вас на всю жизнь. Но, увы, в нынешних условиях вас и вам подобных нельзя остановить. На какое-то время, возможно, это удастся, и то, если мой голос не окажется гласом вопиющего в пустыне. Возможно, чуть-чуть замедлит вашу карьеру. О, вы далеко пойдете!
— Я не понимаю, какие у вас претензии ко мне.
— Не понимаете? Молодец! Кстати, вы любите Рембрандта?
— Я не понимаю, о чем вы говорите.
— У Рембрандта была любимая модель — Саския. Рембрандт неоднократно писал ее. У вас тоже оказалась любимая вами модель — единственная собака в эксперименте, бедро которой вы запечатлели на рентгенограммах один, два… восемь раз. А в протоколе записали, что вы прооперировали восемь собак.
— У вас нет доказательств.
— Есть доказательства! Вот они. Не забудьте, я работаю рентгенологом сорок лет.
— Каждая рентгенограмма — с прооперированной мной собаки.
— Убирайтесь отсюда вон и не забудьте захватить с собой свою липу!
В ту пору я еще ничего не знал о столк–новении Юды Нохемовича с мерзавцем, сделавшим все-таки «научную» карьеру.
Зато случайно оказался свидетелем другого столкновения.
Меня вызвал к себе исполняющий обязанности директора института.
Как обычно, ничего хорошего вызов не предвещал. В дверях приемной столк–нулся с секретаршей.
— Посидите, — предложила она и вышла, дымя сигаретой. Я сел на стул у самого входа в кабинет. Дверь слегка приоткрыта. Из кабинета доносился лающий голос исполняющего обязанности директора. Ему кто-то тихо отвечал. Когда диалог поднялся до трех форте, я понял, что исполняющий ссорится с Юдой Нохемовичем.
До меня уже дошли слухи о предстоящем докладе Мительмана на заседании ортопедического общества. Он проверил сотни рентгенограмм — результаты операций по методу исполняющего обязанности директора института, получившего за этот метод Сталинскую премию. А Юда Нохемович обнаружил, что неудовлетворительных результатов в несколько раз больше, чем в статистических данных, сообщенных автором метода.
Началось с того, что в одной истории болезни Мительман заметил существенное расхождение между клинической оценкой результатов операции и рентгенологической картиной. Но решил, что это случайная ошибка врача из клиники сталинского лауреата, пригласил врача и предложил ему исправить запись. Врач мялся, изворачивался, даже пытался убедить Мительмана в правильности клинической оценки, затем напомнил, в какой клинике осуществлена операция, к тому же самим лауреатом.
Юда Нохемович пошел в архив и наугад взял несколько историй болезни пациентов, прооперированных в клинике по методу лауреата. С присущей ему дотошностью он стал изучать сотни историй болезни. В результате появилась работа, которую Юда Нохемович решил доложить ортопедическому обществу.
Нетрудно было догадаться, что разговор в кабинете директора закипал именно по этому поводу.
— В последний раз предлагаю вам держать язык за зубами! — рычал исполняющий.
— Даже будь у меня зубы, я не держал бы за ними язык, а у меня уже вставные челюсти.
— Послушайте, И-у-да Нохемович, вы забываете, какое сейчас время и кто вы есть. Да я скручу вас в бараний рог!
— Послушайте, су-дарь, — в тон ему ответил Мительман, — во все времена в течение трех с лишним тысяч лет мой народ скручивают в бараний рог. И не трогайте моего имени. Оно мне досталось от предков, и я сим горжусь. А ваше имя вы позаимствовали у греков. Честь имею. Встретимся на ортопедическом обществе.
Юда Нохемович стремительно вышел из кабинета. Полы его длинного и не по фигуре вместительного халата развевались, как библейское одеяние под знойным ветром пустыни. Увидев меня, он приветливо улыбнулся.
Через минуту из директорского кабинета выскочил лауреат в пальто и шапке. Красная физиономия с утиным носом и злобными узкими глазами излучали ненависть. С каким удовольствием он обматюгал бы меня, удобно расположившегося на стуле! Но из предыдущего опыта знал, как я реагирую на брань и как богат мой матерный лексикон.
Исполняющий обязанности не пришел на заседание ортопедического общества, на котором заведующий рентгеновским отделением сделал доклад, низводивший метод, отмеченный Сталинской премией, ко множеству подобных тщетных попыток улучшить сращение костей при переломах.
Не знаю, что исполняющий предпринял. Знаю только, что старый, маленький, сухонький Юда Нохемович Мительман пережил здоровенного властного и могущественного хама, грозившего скрутить его в бараний рог.
Продолжение следует